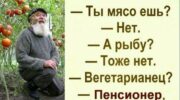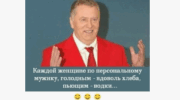С момента создания ФРС либералы служат уже не суверенитету, свободе и ответственности личности, а финансовым спекулянтам, зарабатывающим на краткосрочных колебаниях рынков. Вся их политика направлена на подавление социально-экономического развития нашей Родины.
 Фото: Лилия Шарловская
Фото: Лилия Шарловская
тестовый баннер под заглавное изображение
Ярчайшие примеры этого дает бюджетная политика, главным приоритетом которой с 2004 года (сразу же после политического подавления олигархов) остается замораживание средств на счетах федерального бюджета.
Долгие годы деньги российских налогоплательщиков вкладывались в западные активы, укрепляя их конкурентов, что делало платежи налогов вредными для бизнеса. Прекратила эту политику лишь «заморозка» российских активов Западом — и с 2022 года средства налогоплательщиков просто лежат на счетах бюджета, где их сжигает инфляция.
При этом все новые триллионы рублей одалживаются по заведомо завышенным (с учетом реальных рисков) процентам у крупнейших банков, причем часть этих триллионов, как перед дефолтом 1998 года, является средствами самого бюджета, предварительно размещенными в этих же банках (насколько можно судить, под значительно более низкие проценты). Таким образом, федеральный бюджет одалживает у банков свои же деньги — и, вероятно, в убыток себе.
Но и без этого колоссальные средства, выплачиваемые крупнейшим банкам в виде процентов за заведомо ненужные вклады, являются по сути субсидированием финансовых спекулянтов отечественной сборки. В 2024 году они выросли на треть — до рекордных 2,3 трлн руб., что превысило 60% чистой прибыли банков (выросшей на 15% — до также рекордных 3,8 трлн).
Этот пир во время финансовой чумы идет под сурдинку бессмертного «денег нет, но вы держитесь!». И денег для России действительно нет: они неумолимо замораживаются на счетах бюджета.
Пресловутый Фонд национального благосостояния (ФНБ) создавался в 2007 году для компенсации дефицита Пенсионного фонда. Но когда этот дефицит возник (прежде всего из-за регрессивного обложения доходов граждан, при котором чем человек беднее, тем больше у него пытается отнять государство, выталкивая его в «тень»), проблему стали решать сокращением пенсионных прав, вплоть до повышения пенсионного возраста. (Оно также выталкивает людей в «тень», так как заведомо не доживающие до пенсии не понимают, зачем им платить пенсионные взносы.)
ФНБ же стал неприкосновенной «священной коровой». Несмотря на использование его средств на инвестиционные (прежде всего инфраструктурные) проекты, что можно только приветствовать, его объем на 1 мая 2025 года составил почти 11,8 трлн руб., в том числе в полностью ликвидных средствах на счетах и в золоте — 3,3 трлн руб. Но и остальные средства вложены в достаточно ликвидные активы, которые можно использовать либо прямо (чего стоят не так давно выкупленные у Банка России для утилизации денег налогоплательщиков акции Сбербанка на 3,5 трлн руб., которые ничего не стоит продать обратно), либо как прекрасный залоговый ресурс.
Но главная «кубышка» либералов скрыта от глаз: это средства, замороженные ими на счетах бюджета вне ФНБ. В проекте федерального бюджета на 2025 год процентные доходы, которые Минфин намеревался получить от их размещения в банках (или от использования иными способами), были оценены в более чем 950 млрд руб. — почти в триллион!
Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, министр финансов Силуанов назвал конкретную величину указанных средств, которую не предполагалось снижать в текущем году: 8,2 трлн руб.
Данной суммы (даже без учета денег, замороженных в ФНБ) достаточно для финансирования решения в прямом смысле слова любых проблем, стоящих перед Россией, для финансирования достижения любых целей, которые захочет достичь ее руководство.
Конечно, их использование будет неудобным для официальной статистики, так как резко увеличит дефицит федерального бюджета. Однако это будет лишь статистический эффект, так как эти деньги отнюдь не выведены из оборота, а наоборот, вложены в экономику (пусть и в ее спекулятивный сектор) и приносят бюджету доход, пусть и мизерный по сравнению с возможностями их не спекулятивного, а производительного инвестирования, включая вложение в разработку новых технологий. Соответственно, их расходование на те или иные нужды не увеличит денежную массу и тем самым не создаст угрозы ускорения инфляции даже с точки зрения предельно убогой современной либеральной экономической теории.
Если же обратиться от нее к реальности, в которой Россия страдает от искусственно созданного «денежного голода» чудовищной интенсивности (монетизация экономики остается лишь немногим выше 50% ВВП, то есть почти вдвое ниже нормального уровня), окажется: увеличение денежной массы даже само по себе является благом, а не угрозой — просто потому, что деловая активность в этом случае растет заведомо быстрее денежной массы.
Ведь рост цен в условиях «денежного голода» вызван не тем, что у людей (60% которых, по данным ВШЭ, в прошлом году зарабатывали 40 тыс. руб. в месяц или меньше, что заметно ниже реального прожиточного минимума, составлявшего 51,3 тыс. руб.) слишком много денег, а ростом издержек, в основе которых лежит тотальный произвол монополий. Снижение остроты нехватки денег качественно ускоряет производство товаров даже при нехватке квалифицированной рабочей силы — и этим способствует замедлению, а отнюдь не ускорению инфляции.
В близких к идеальным условиях ограничения произвола монополий (хотя бы только электроэнергетики, «Газпрома» и железных дорог) и финансовых спекуляций это наглядно продемонстрировали после дефолта 1998 года правительство Примакова–Маслюкова и Банк России под руководством Геращенко.
Но и в современных условиях неприкосновенности произвола монополий, вывода капитала и финансовых спекуляций это же показал конец 2022 года, когда в оборот было вброшено не менее 5 трлн эмитированных рублей — без каких бы то ни было негативных причин. Более того: вплоть до рукотворной девальвации середины 2023 года в результате этого увеличения дефицита бюджета инфляция замедлялась, а экономика получила такой импульс развития, что даже сверхжесткой финансовой политикой ее удалось придушить лишь в I квартале этого года (когда рост ВВП наконец смогли опустить в соответствии с либеральными целевыми прогнозами ниже среднемирового уровня — до 1,4%).
Подобные результаты, очевидные с точки зрения здравого смысла, остаются хронически недоступными для стандартной либеральной теории, в интересах финансовых спекулянтов обосновывающей необходимость ужесточения финансовой политики для разрушения производительного сектора: чтобы производство стало невыгодным, а его средства превратились в ресурсную базу спекулятивных операций. Не случайно ключевой инструмент этой политики — МВФ — еще в конце прошлого века было исчерпывающе охарактеризован как «врач, выписывающий один-единственный рецепт и в принципе не интересующийся диагнозом».
Содержательная ошибка либеральной теории заключается в рассмотрении исключительно ситуаций, когда инфляция вызвана исключительно избыточной денежной массой. В этом случае действительно для оздоровления экономики необходимо ужесточение финансовой политики — точно так же, как для лечения ожирения нужна жесткая диета.
Проблема в том, что других ситуаций — в том числе искусственно созданного в постсоветской России в интересах финансовых спекуляций «денежного голода» — либеральная теория принципиально (и в силу не какой-то тупости либералов, а их вульгарной политико-экономической ангажированности) не рассматривает. В результате она уподобляется врачу, лечащему дистрофию тем же средством, что и ожирение, — голоданием. Последствия этой фундаментальной содержательной ошибки (чтобы не сказать «политического порока») мы наглядно наблюдаем в неумолимо вымирающей (а точнее, эффективно вымариваемой социально-экономическими методами) России последней трети века.
Конечно, резкое увеличение денежной массы вызовет мгновенный переток средств на спекулятивные рынки и разрушительную девальвацию, которая из августа 1992-го быстро приведет нас в сентябрь 1993 года. Однако ограничение финансовых спекуляций, неизбежное на нашем уровне зрелости финансовой системы (применявшееся в развитой части Европы до 1989-го, в США до 1999-го, в Японии до 2000 года, а в Китае и Индии — и по сей день), позволит утолить «денежный голод» с сохранением финансовой стабильности.
Главное же — использование замороженных в федеральном бюджете 8,2 трлн руб. к росту денежной массы, как было показано выше, не приведет.